|
|
| Ангел поражает Захарию немотой
|
"Библейские эскизы" Александра Иванова - сравнительно малоизвестные и совсем малоисследованные творения великого мастера, хотя, по оценке В.Стасова и А.Бенуа, они не уступают, а, возможно, и превосходят по своему художественному достоинству его ранее написанную прославленную картину "Явление Мессии". Первое полное их издание было осуществлено больше ста лет назад в Берлине. С тех пор эти превосходного качества литографии стали большой редкостью, только некоторые листы репродуцировались в книгах и статьях, посвященных творчеству Иванова.
Мы публикуем историко-искусствоведческое исследование Нины Александровны Дмитриевой "Библейские эскизы Александра Иванова", написанное для книги-альбома, замысел которого принадлежал протоиерею о.Александру Меню; он собирался написать комментарии богословского характера. Для предполагаемого издания были изготовлены слайды с хранящихся в Государственной Третьяковской галерее акварелей библейского цикла. Альбом будет включать 200 иллюстраций, (более половины всех сохранившихся эскизов), каждая сопровождается комментарием, содержащим краткое объяснение сюжета и выдержки из текстов Ветхого и Нового заветов.
К сожалению, книга еще не нашла своего издателя. Мы даем лишь малую часть иллюстраций, осознавая при этом, что полноценное воспроизведение акварелей требует очень высокого полиграфического качества. И все же мы полагаем, что это будет радостное знакомство с уникальной страницей русского искусства.
Понимание искусства как жизнестроительной миссии наложило своеобразный отпечаток на русскую культуру XIX столетия. Не только для Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, но и для передвижников художественный труд имел важность постольку поскольку служил духовному совершенствованию людей. В этическом максимализме русских художников, возможно, сказывалась преемственность с многовековой культурой Древней Руси, где эстетическое сознание не отчленялось от религиозного. Преемственность, конечно, неосознаваемая: в XIX веке образ мыслей круто переменился, старинную иконопись позабыли, новый художественный язык, ориентированный на европейское Возрождение, не имел с ней ничего общего. Но где-то в потаенных генах прошлое продолжало жить. Древние благочестивые иконописцы не мыслили свое искусство вне служения Богу; их вольнодумные потомки, даже и не верящие в Бога, видели в искусстве служение чему-то высшему, чем оно само. Если не Богу, то нравственному обновлению человечества, не меньше.
Живописец Александр Иванов представляет такой тип художника в самом чистом выражении. Идея художественного мессианизма владела им повелительно, превратила его жизнь в подвижническое житие. Это произошло с ним не благодаря полученному воспитанию, скорее вопреки. Он был воспитанником императорской Академии художеств, обучавшей своих питомцев в духе эпигонского неоклассицизма и прививавшей им довольно формальное отношение к делу искусства. Учеников набирали только из низших сословий, приученных к послушанию; обучение начиналось с детского возраста и длилось двенадцать лет. Вырваться из-под пресса жесткой академической системы удавалось немногим.
|
|
| Первый день творения: свет
|
Поначалу биография Александра Иванова складывалась традиционно: поступил в академию еще ребенком, занимался по классу исторической живописи (самому высшему в академической иерархии жанров) под руководством своего отца Андрея Иванова, профессора академии, и профессора Егорова, слывшего русским Рафаэлем. По окончании курса Общество поощрения художников отправило Александра пенсионером в Италию. В отличие от своего старшего товарища Карла Брюллова Иванов в годы учения особенно не блистал, хотя работал прилежно, выполнял задания, получал медали. Писал “Приама перед Ахиллом”, “Иосифа, толкующего сны”, “Беллерофонта, отправляющегося в поход против Химеры” – картины, не слишком отличающиеся от принятых академических стандартов. Он был медлителен, тих, серьезен, был тяжелодум; какая-то сосредоточенная душевная работа шла в нем подспудно. Может быть, он и уступал Брюллову в яркости, искрометности дарования, но тот как будто родился готовым Брюлловым и со временем мало изменялся, а Иванов, двигаясь неуклонно и непрерывно, не только вырос впоследствии из академических пелен, но перерос лучшие живописные достижения своих современников, выработал новое художественное зрение и новый взгляд на искусство.
Заметный сдвиг и в мыслях и в творчестве наступил уже в первые годы жизни в Риме, куда Иванов прибыл в 1830 году. В Петербурге среда художников, вербовавшихся из семей мещан и мастеровых, была обособлена от той напряженной умственной жизни, которой жила тогда дворянская интеллигенция. К ней были так или иначе причастны лишь немногие живописцы, в том числе “видописец и перспективист” (то есть пейзажист) Карл Рабус: современники отзывались о нем как о самом просвещенном художнике. Иванов дружил с Рабусом, снабжавшим его списками книг для чтения; других тесных знакомств вне академического круга у него, по-видимому, не было. В Риме же молодые русские художники – пенсионеры академии имели возможность общаться и с иностранцами, и со своими земляками – писателями, артистами, музыкантами, наезжавшими в вечный город. Здесь Александр Иванов стал бывать в салоне Зинаиды Волконской, у нее свел знакомство с молодым философом Николаем Рожалиным, участником кружка любомудров. Как много значили для Иванова их беседы, можно судить по письму к Рожалину, где он пишет: “Отцу моему я обязан жизнью и искусством, которое внушено мне как ремесло. Вам я обязан понятием о жизни и об отношении искусства моего к источнику его – душе”.
Рожалин, умерший от туберкулеза совсем молодым, был одним из ранних русских романтиков, вкусивших плоды германской философии. Незадолго до приезда в Рим он слушал в Мюнхене лекции Шеллинга по философии искусства. Очевидно, они занимали не последнее место в разговорах с Ивановым, еще в Петербурге читавшим некоторые сочинения Ваккенродера, Новалиса, Августа Шлегеля. Возможно, идеи шеллингианства были не совсем по плечу выученику российской Академии художеств, дававшей более чем скудное общее образование (о чем Иванов всегда сокрушался), но то главное, что отвечало складу его творческой личности, он принял всей душой: мысль о великой миссии искусства в приближении духовного возрождения общества. Искусство, согласно Шеллинговой философии тождества, воссоединяет в себе начала, которые в теоретическом мышлении разобщены – всеобщее и единичное, природу и дух, идеальное и реальное, – являясь в этом смысле подобием творчества Бога, создавшего Вселенную. Сознание высокого предназначения искусства, его единства с религией и философией укоренилось в миросозерцании Александра Иванова. Его окрыляла мысль, что и пластические искусства не сводятся к ремеслу, а “есть такая же умственная отрасль в человечестве, как поэзия и музыка”.
Под впечатлением бесед с Рожалиным Иванов написал картину “Аполлон, Кипарис и Гиацинт” – лучшее произведение своей молодости. Он написал его во славу искусства. Предводитель муз обучает пению и игре на свирели двух прелестных мальчиков-пастухов (они же олицетворяют природные начала: Кипарис – дерево, Гиацинт – цветок). Художник неспроста выбрал этот малоизвестный сюжет греческой мифологии. Музыка в представлении романтиков была парадигмой всех искусств, сосудом мировой гармонии.
|
|
| Бог приводит Еву к Адаму
|
Картину эту Иванов не отсылал в Петербург – оставил у себя и никогда с ней не расставался: она была его заветным, интимным творением, а для отчета перед Обществом поощрения художников надо было найти другой сюжет. Художник намечал несколько возможных и наконец остановился на эпизоде из истории библейского Иосифа – “Братья Иосифа находят чашу в мешке Вениамина”.
Эта многофигурная композиция должна была показать петербургским меценатам умение их подопечного компоновать, группировать, драпировать, справляться со сложными ракурсами и с достаточной отчетливостью (это слово любили в академии) представить драматическую суть происходящего – удивление и растерянность братьев. Иванов послал в Петербург два эскиза, получил в ответ одобрение одного из них и несколько замечаний, касающихся частностей. Оставалось приняться за картину. Но художник не спешил, по-видимому, замысел мало удовлетворял его самого. С присущей ему добросовестностью он сделал еще двадцать вариантов композиции, показывал их другим художникам, ожидая советов. Слушал многих, но послушался одного.
Им оказался не ученик Давида Камуччини и не прославленный ваятель Торвальдсен (оба жили тогда в Риме), а немецкий живописец Фридрих Овербек, глава “назарейцев”. Назарейцы отрицательно относились к методам европейских академий. Они ориентировались на “дорафаэлевскую” эпоху XV века, когда искусство, по их мнению, было искренним и непосредственным выражением религиозных чувств. Иванов питал большое уважение к Овербеку: он импонировал ему не столько своей живописью, довольно сухой и постной, чего Иванов не мог не замечать, сколько взглядами, суждениями, образованностью. Образ мыслей Овербека формировался под влиянием немецкой романтической философии, к которой Иванов приобщался через Рожалина. Именно от Овербека Иванов услышал решающее слово, подсказавшее ему выбор пути. Рассматривая эскиз “Братьев Иосифа”, Овербек заметил, что (цитирую письмо Иванова от 1833 года в Общество поощрения художников) “предмет мой есть эпизод истории Иосифа: всякий эпизод не достоин быть большой картиной, ибо есть привходящая часть истории, и потому лучше выбирать сюжеты для больших произведений, составляющие целый объем чего-либо (поэму). С этой мыслью занялся я снова отысканием для себя сюжета, прислушивался к истории каждого народа /…/ и нашел, что выше евреев ни одного народа не существовало, ибо им вверено было свыше разродить Мессию, откровением коего начался день человечества! Таким образом, идя вслед за алканием пророков, я остановился на Евангелии – на Евангелии Иоанна! Тут на первых страницах увидел я сущность всего Евангелия – увидел, что Иоанну Крестителю поручено было Богом подготовить народ к принятию учения Мессии, а наконец и лично Его представить народу. Сей-то последний момент выбираю я предметом картины моей, то есть когда Иоанн, увидев Христа, идущего к нему, говорит народу: “Се агнец Божий, вземляй грехи мира!..”
|
|
| Грехопадение
|
Так Иванов определил дело своей жизни: создать произведение общечеловеческой значимости, которое бы проложило русскому искусству дорогу в будущее. Вера в возможности русского искусства наполняла его чувством ответственности. Сравнивая своих соотечественников с современными итальянскими художниками, он находил, что последние уступают русским: они выдохлись, отцвели, не достойны своих великих ренессансных предшественников; русские же, по мнению Иванова, только начинают, они еще “новорожденные”, но силы у них большие и им суждено стать наследниками мировой классики и пойти еще дальше. А для этого требовалась, помимо школы, масштабность целей. Замечание Овербека упало на подготовленную почву.
Скромный в жизни, в искусстве Иванов строил великие планы. Художественный максимализм был свойством его натуры, подогреваемым идеями романтиков. Исследователь немецкого романтизма Н.Я.Берковский пишет: “Ранний романтизм стремился к большим поэтическим формам, к роману со всесветным содержанием, если не к эпопее, к развернутым театральным зрелищам, к многоэпизодным драмам, к феериям и мистериям”. В дальнейшем, говорит Берковский, романтикам пришлось разочароваться в идее преобразования мира через искусство, и большие формы вытесняются лирическими жанрами. Но Иванову лирическая стихия осталась чуждой. Он утвердился на стадии романтически-эпической, на “всесветном содержании”, на универсуме. В этом отношении философия романтизма была для него не просто преходящим увлечением молодости, а прочно укоренилась в сознании, оплодотворив не только подвижнический труд над “Явлением Мессии”, но, как увидим дальше, и работу над библейскими эскизами.
|
|
| Бог карающий
|
Отсюда, впрочем, не следует, что Иванов был умо-зрительным художником, философствовавшим с кистью в руках. Нет, он был не слишком-то силен в отвлеченных умозрениях, хотя перед “ученостью” благоговел. Философия подсказывала ему общее направление, а в живописи он вырабатывал свои методы и совершал свои открытия благодаря исключительному дару, великому труду и художественной интуиции.
* * *
Итак, на третьем году жизни в Италии Иванов твердо решил писать “Явление Мессии” – “сущность всего Евангелия”. Этот замысел не вызвал сочувствия в Петербурге, показался неподходящим для живописного оформления. “Смысл всего Евангелия – предмет довольно важный, но как ты оный изобразишь?” – недоумевал Андрей Иванов, отец Александра. Григорович, конференц-секретарь Общества поощрения художников, прямо запретил работать над таким сюжетом. Тогда Александр Иванов, не думая расставаться с замыслом “Мессии”, довольно быстро написал картину “Явление Христа Марии Магдалине” и отправил ее в Петербург в качестве отчета. Картина эта несла отблеск его главного замысла. В выражении лица Магдалины, увидевшей живым того, кого она считала мертвым, в ее улыбке сквозь слезы, проступала тема радостного потрясения, блеснувшей надежды, доминирующая в психологическом решении задуманной большой картины. Но фигура Христа, поставленная в позу Аполлона Бельведерского, трактована слишком академически, да и лицо незначительно. Сам художник говорил, что здесь “только начаток понятия о чем-то порядочном”. Однако “Явление Христа Магдалине” всем очень понравилось и произвело фурор в Петербурге. Художнику присудили звание академика. Он мог теперь вернуться на родину и занять в академии достойное место. Его отец, к тому времени отстраненный от преподавания по необъяснимой прихоти Николая I, очень рассчитывал на скорое возвращение сына. Вместо этого от сына пришло письмо, где говорилось: “Вы полагаете, что иметь жалование в 6–8 тысяч руб. по смерть, получить красивый угол в Академии с отопкой и освещением есть уже высокое блаженство для художника, а я думаю, что это есть совершенное его несчастие. Русский исторический живописец должен быть бездомен, совершенно свободен… никогда ничему не подчинен, независимость его должна быть беспредельна. Вечно в наблюдениях натуры, вечно в недрах тихой умственной жизни, он должен набирать и извлекать новое из всего собранного, из всего виденного… Купеческие разсчеты никогда не подвинут вперед художества, а в шитом высоко стоящем воротнике тоже нельзя ничего сделать, кроме стоять вытянувшись”.
|
|
| Призвание Авраама
|
Александр Иванов стал “невозвращенцем”. Правда, пенсион ему выплачивали еще три года сверх положенного. Он много ездил по Италии, открывал для себя новые художественные миры – не только венецианских колористов Тициана, Веронезе и Тинторетто (а также Беллини и Чима да Конельяно), которых в российской академии не очень жаловали, но и много такого, о чем там не имели понятия или считали недостойным внимания: Джотто, мастеров кватроченто, средневековые мозаики и фрески. Рафаэля и Леонардо да Винчи Иванов по-прежнему ставил превыше всего, но это не мешало ему впитывать и совершенно иные впечатления. Главное же для него – быть “вечно в наблюдениях натуры”. Он не считал себя пейзажистом, но в “Явлении Мессии” нужно было изобразить берег реки, дерево, пустыню, дальние горы – и он писал горы в Неаполе, “реку чистейшей и быстро текущей воды” в Субиако, старую Аппиеву дорогу в Риме, Понтийские болота. Писал этюды почвы, камней, веток. Никогда не сбивался на банальную сладость в изображении итальянской природы: его пейзажи, несмотря на небольшие размеры, эпически величавы и могут напомнить о классических ландшафтах Пуссена, с той разницей, что у Иванова все прослежено и проверено на природе. Камни в горном ручье, ветка дерева на фоне лиловеющих далей учили его тайнам цвета, определяющего форму и пространственные планы, меняющего оттенки в зависимости от освещения. Он замечал самые тонкие эффекты: как “скачущая пена, соединяясь с росой, кроет лиловато-седоватым цветом и зелень, и скалы, и все, возле находящееся”. Постоянно работая на пленэре, стал писать синие тени, цветные рефлексы в тенях, предвосхищая видение импрессионистов, но предметы у него не подвергались “развеществлению”, сохраняли осязаемую материальность, цвет оставался звучным и насыщенным, композция – строго построенной. В искусствоведческой литературе Иванова иногда не без основания сопоставляют с Сезанном. Но то, что для Сезанна было целью, для Иванова было средством. Он утверждал, что отдельно от большой картины его этюды, особенно ценимые художниками, “мало значат”.
Он не считал себя и портретистом, даже презирал портретный жанр как самостоятельный, но в поисках нужного для картины типажа писал множество разнообразных лиц. При этом действовал методом “сравнения и сличения”, стремясь “согласить творчество старых мастеров с натурой”. Это не значит, что он “поправлял” свои натурные этюды по античным или ренессансным образцам (такой метод он решительно отвергал), он искал в жизни лица, подобные тем, что могли вдохновить старых мастеров. Вглядываясь, например, в античную голову фавна, словно задавался вопросом: какова была натура, претворившаяся в этом образе? И сквозь ужимки мраморного козлоногого божества ему виделось сморщенное лицо раба с жалкой улыбкой. Наблюдения над живыми людьми вносили новые обертоны: среди этюдов головы раба есть головы нищих с изуродованными лицами, клейменых каторжников, есть лица забитые и мятежные, приниженные и вызывающие, есть даже женские и детские, смеющиеся. Так он работал почти над каждым персонажем “Явления Мессии”, проводя его через ряд перевоплощений.
Он мечтал посетить Палестину – место действия своей картины, и еще в 1834 году, а потом снова в 1837-м обращался в Общество с просьбой командировать его туда, но ему решительно отказали, а собственных средств на поездку не было. Художнику пришлось удовольствоваться поисками нужного типажа и ландшафта в Италии. Как Рембрандт для своих библейских сюжетов писал обитателей еврейского гетто в Амстердаме, так и Иванов искал прообразы для картины в синагогах. Он сообщал сестре: “Я им (евреям. – Н.Д.) очень, очень нравлюсь моею начитанностью Библии, и они мне очень, очень нравятся в своих синагогах, где я вижу гораздо более набожности, чем в нынешних церквах христианских”.
|
|
| Борьба Иакова с Богом
|
Шли годы; художник трудился с неостывающим жаром: вся его жизнь сосредоточилась на работе над грандиозным полотном, а конца все не было видно. Он обрек себя на крайнюю бедность, так как больше не получал денежной помощи, а брать ради заработка посторонние заказы не хотел – это отвлекало бы его от главного дела. Так он и отвечал на увещания друзей и родных. В 1840 году писал брату: “Ты говоришь: оканчивай скорей картину, чтобы начать другую. Сыщи мне сюжет выше. Что ты скажешь? Ну, подобный! – трудно; нет, я думаю, и невозможно. Так чем же ты меня заманишь к следующей картине?” Что было делать с упрямцем? Он не обзавелся семьей, видя в привязанности к женщине “страшное препятствие для занятий”, хотя к женщинам его влекло. О возвращении в Петербург, в ненавистную академию не хотел и слышать, но, неисправимый утопист, измышлял проекты устройства быта русских художников, один другого фантастичнее.
Об Иванове с его никак не кончавшейся картиной в России ходили всевозможные толки: его считали не то чудаком, не то святым или тем и другим вместе. Художники в Риме, знавшие Иванова, иногда над ним подшучивали, но в общем любили римского затворника, возвышенного и простодушного, хотя, кажется, никто не решался ставить его, как художника, наравне с пожинавшим лавры Брюлловым.
|
|
| Фараон просит Моисея и Аарона вывести народ еврейский из Египта
|
Любил Иванова и Гоголь, с которым он близко сошелся в Риме. В 1846 году Гоголь написал в форме письма к М.Ю.Виельгорскому статью “Исторический живописец Иванов” – она вошла в “Выбранные места из переписки с друзьями”. Практической целью статьи было привлечь внимание русского общества к бедственному положению художника и дать ему средства для окончания картины – “ему, как мастеру, сидящему над таким колоссальным делом, какого не затевал доселе никто”. Гоголь говорил, что вся материальная часть картины Ивановым уже исполнена, и исполнена в совершенстве, но, чтобы “изобразить на лицах… ход обращения человека ко Христу”, мало неустанной работы, натуры, воображения, нужно, сверх всего этого, истинное всецелое обращение ко Христу самого художника. “И это было предметом сильных страданий его душевных и виною того, что картина так долго затянулась”.
Возможно, Гоголь был прав: Иванова посещали сомнения. Как видно из его записей, он все время пытался осмыслить в свете разума евангельские откровения. Ведь он с самого начала осознавал себя историческим живописцем, а картину свою – исторической картиной, не только в смысле “точностей антикварских”, но, главное, в том, что изображаемое эпохальное событие является звеном человеческой истории, связано и с ее прошлым, и с будущим. Значит, большой путь исканий истины этому событию предшествовал и еще больший простирается впереди, теперь уже на путях разума, науки, “посредством математики”, как выражался Иванов на своем тяжеловесном языке. Ищущей мысли художника постепенно становилось тесно в границах одного “Явления Мессии”: ведь и этот сюжет был только частью, только моментом истории.
Уже с конца 1830-х годов он стал позволять себе некоторые отходы в сторону от работы над картиной. До 1848-го (года “перелома”) таких отходов у него было немного, но каждый так или иначе подводил его к будущим библейским эскизам.
В 1839–1842 годах он написал несколько акварелей (впервые воспользовавшись этой техникой) на бытовые темы: “Жених, выбирающий кольцо для невесты”, “Пение Ave Maria на городской площади”, “Октябрьские праздники в Риме”, – то есть произведения бытового жанра, к которому всегда относился осуждающе. В данном случае он проявил непоследовательность, но, как известно, жесткая последовательность не всегда хороша, и во всяком случае не является добродетелью художественных натур. В неожиданном обращении Иванова к жанру могла сказаться и просто потребность дать себе некоторую разрядку, и его любовь к римской уличной жизни, к экспансивной, веселой итальянской толпе; могло здесь быть и влияние Гоголя. Наконец, работая над этими вещами, художник тренировал свою наблюдательность, что отозвалось потом в библейских эскизах, где и житейские мотивы находили место. Но когда Общество поощрения художников предложило Иванову сделать еще несколько жанровых композиций, он решительно отказался, мотивируя опять-таки невозможностью отвлекаться от главной работы.
|
|
| Народ израильский собирает манну и перепелов
|
Еще раз он отвлекался в 1845 году, также на дело для него необычное – создание запрестольного образа “Воскресение” для храма Христа Спасителя, возводимого в Москве по проекту К.Тона.
В XIX веке многие светские живописцы писали образа для церквей, отец Александра Иванова после увольнения из академии зарабатывал этим на жизнь. Писали образа в академической манере, не имеющей ничего общего с древнерусской традицией. Александр Иванов к академической “иконостасной” живописи относился резко отрицательно, а старинной иконописи, как и все его современники, почти не знал, кроме поздних икон XVIII века. Но убранство храма Христа Спасителя предполагалось “в византийском вкусе”, и это настолько заинтересовало художника (он видел в Италии византийские памятники), что он по собственному почину, не дожидаясь официального заказа, начал работать над эскизами “Воскресения”, со свойственной ему основательностью добираясь до исторических корней – до “прадедной символики церковной”. Он просил отца и своих друзей из числа славянофилов присылать ему иконные прориси и книги об иконописании. Славянофилы так же мало знали о русской иконе, как и западники, а отец не одобрил намерения Александра, считая, что придерживаться старого иконного стиля – значит потакать необразованности народного вкуса.
Однако Иванову удалось получить некоторые материалы через посредство младшего брата, архитектора. Прежде всего он изучил иконографию. В византийской и древнерусской живописи воскресение Христа изображалось не прямо, а косвенно: или жены-мироносицы у опустевшей гробницы, где их встречает ангел, или нисхождение воскресшего Христа в ад, откуда он выводит ветхозаветных праведников и прародителей человечества Адама и Еву. Иванов остановился на “Сошествии во ад”, различно варьируя композицию. В окончательном эскизе он достиг, сколь возможно, органического объединения иконописного “апотеозического” стиля с элементами современного видения. Как и в древних иконах, изображение ориентировано на плоскость, перспективное построение отсутствует. Но есть ощущение фактурности, вещественности, которого в иконописи обычно нет. В верхней части – облака и звезды, подобие космического пейзажа, внизу – тяжелые разломанные адские врата, кого-то придавившие под обломками, выглядят, как след мощного землетрясения. В разверзшейся мрачной бездне ангелы связывают и изгоняют бесов.
|
|
| Левиты благословляют сынов Израилевых
|
Иванову не пришлось предъявлять свой эскиз – заказ на запрестольный образ получил Брюллов, а Иванову предложили написать четырех евангелистов. Он отказался: теперь он не мог писать ничего заданного, а только то, что облюбовал сам. Единственная попытка работать для церкви не состоялась, но Иванов не слишком об этом жалел: зато работа над “Воскресением” дала ему новую идею – идею необычного храма, где иконостас был бы исполнен в традиционном “апотеозическом” стиле, а в стенной росписи, посвященной евангельской и ветхозаветной истории, стиль постепенно переходил бы в современный исторический; ограда храма должна была быть украшена “мозаическими изображениями всех важнейших происшествий нашей истории до сего времени”, наружная ее часть – “всемирными эпохическими предметами”. Этот громоздкий утопический проект предвосхищал более поздний замысел “храма человечества” (уже не церкви), для которого предназначались библейские эскизы.
В альбомах Иванова все чаще появляются наброски композиций на сюжеты из Библии, не связанные с “Явлением Мессии”, среди них иллюстрации к Книге Бытия. Сделанные в 1846–1847 годах, они предваряют позднейший библейский цикл и могут рассматриваться как его начало (так называемые протобиблейские эскизы). Рисунки, посвященные грехопадению Адама и Евы(5,6), сравнительно малооригинальны: в них Иванов сбивается на привычные академические методы композиционных решений. Но исключительно интересны монохромные акварели “Дни творения”. Здесь художник дает волю фантазии, не следуя никаким образцам. Он отдается во власть изначальным космогоническим представлениям о Творце как мудром мастере, который любовно лепит и оживляет мир, вызванный им из небытия. Сама манера рисунка – скупые линии, компактные очертания, без растушевки и проработки объемов – призвана выразить величавую простоту древнего предания. В наброске “Дух Божий носился над водами”(2) возникает образ довременного хаоса, Мирового океана; Дух, носящийся над бурными беспорядочными волнами, не имеет определенной формы: то ли руки, то ли крылья, распростертые над бездной. Но вот хаос усмирен, сотворена земная полусфера, бескрылые ангелы бережно поддерживают руки Саваофа – большие чуткие руки скульптора: он вкладывает в новосозданный мир солнце и месяц, потом маленьких людей и животных. Истинно монументален небольшой по размерам лист – оживление Адама(4). Длинными тянущимися горизонталями, горизонтальной грядой облаков создается впечатление бескрайней пустынной равнины: земля без человека. Посередине лежит Адам – еще безжизненная кукла. Саваоф приникает к его лицу, чтобы вдохнуть душу.
|
|
| Поклонение золотому тельцу
|
В те же годы Иванов усердно читал Библию и делал записи в особой тетради. Его “Мысли при чтении Библии” фрагментарны, в них не сразу можно обнаружить систему. На своем трудном духовном пути он возводил и рушил многие воздушные замки. Часто он возвращается к мысли о провиденциальном назначении России и русских художников в обновлении человечества и наступлении золотого века. Большие надежды возлагает на царя – при условии, что тот будет прислушиваться к пророческому голосу художников, призванных смягчить нрав государя и расположить его к милосердию, как Давид смягчал своей музыкой Саула, а сами художники будут избавлены от “подлейшего чиновничества, нас на каждом шагу угнетающего”. Нужно заметить, что в 1845 году Николай I приезжал в Рим и посетил мастерскую Иванова; Николай умел при желании обворожить собеседника – так было и с Пушкиным, а с доверчивым Ивановым не составляло труда. Иванов потом писал Языкову, что приход царя дал ему “чувство собственной значимости”. Больше прежнего он чувствует себя призванным проложить новый путь в искусстве. Как ему мыслился этот путь? Теперь он полагал нужным разграничить сферы живописи иконной и исторической. Иконники пусть следуют традиции, “вчитываясь в греческих пастырей”, то есть в сочинения отцов церкви. “А образованным художникам нашим предстоит поприще чисто исторической живописи, в которой они долженствуют соединить развитие искусства итальянского в 15-м столетии с глубокими сведениями древности, взвешиваемыми беспрестанно чистейшим критическим разумом русским”. Задуманный им “храм” будет представлять “результат всех верований, отданных на разбор последней нации на планете земле”.
Такова общая программа, которую Иванов считал желательной для современного искусства. А философический подтекст библейских эскизов, к которым он вскорости приступил, выражен в следующей записи: “Человек чувствует божество бесконечное, самовластное и бестелесное. Но он не в силах его изобразить иначе, как приписав ему свои человеческие качества, составляя таким образом себе идеалы. Отсюда художник начинает свои действия…”
|
|
| Пророк Илия в пустыне
|
Мысль эта близка идеям немецкого философа Людвига Фейербаха. Но есть и существенная разница. Фейербах, считавший, что “религия есть сон человеческого духа”, видел в ней возвышение и обожествление собственно земных, человеческих качеств. Иванов же думал, что человек приписывает божеству эти качества, так как иначе не в силах выразить невыразимое и только так может облечь в форму свой внутренний религиозный опыт.
Поддержка публикации статьи обеспечена сайтом PPt4WEB. Изучение любого предмета становиться более интересным и разнообразным, когда сопровождается наглядным материалом, тем более если этот предмет МХК. Сложно себе представить рассказ о великолепной картине, не сопровождаемый изображением этой картины. Презентации по МХК, предоставляемые сайтом PPt4WEB, помогут вам дополнить процесс обучения иллюстрациями предмета изучения, сделав его эффективней и интересней. Сайт PPt4WEB располагается по адресу http://ppt4web.ru.
* * *
Революционные события 1848 года нарушили тихое затворничество Александра Иванова. Общественные потрясения, кипение политических страстей, от которых “римский отшельник” всегда был далек, подступили к порогу его кельи. Сначала он лишь беспокоился, как бы все это не помешало его работе над картиной. А.И.Герцен позже вспоминал: “Я познакомился с ним в Риме в 1847 году. При первом свидании мы чуть не поссорились. Разговор зашел о “Переписке” Гоголя. Иванов страстно любил автора, я считал эту книгу преступлением. Влияние этого разговора не изгладилось, многое поддерживало его. Настал громовой 1848 год; я жил на площади, Иванов плотнее запирался в своей студии, сердился на шум истории, не понимал его; я сердился на него за это. К тому же он был тогда под влиянием восторженного мистицизма и своего рода эстетического христианства. Тем не менее иногда вечером Иванов приходил ко мне из своей студии и всякий раз, наивно улыбаясь, заводил речь именно о тех предметах, в которых мы совершенно расходились.
|
|
| Свет над Иерусалимом
|
В Париже была провозглашена республика, престол папы покачнулся, вся Европа приподымалась, – я забыл Иванова и поскакал в Париж”.
Однако Иванов не был таким уж смиренным монахом от искусства, как обрисовал его Гоголь в своей статье. Может быть, не сразу, но события его расшевелили. Он сочувствовал воле итальянского народа к освобождению от австрийского господства, сочувствовал романтическому основателю “Молодой Италии” Мадзини, возглавившему кратковременную римскую республику. Знакомство и беседы с Герценом также оставили след в миросозерцании художника: мощный ум Герцена не мог не привлекать его, оттесняя влияние Гоголя. Помогало и присутствие младшего брата Сергея, настроенного достаточно радикально. Десятилетие спустя, уже после смерти художника, Сергей Иванов писал В.В.Стасову, отвечая на вопрос, не Гоголь ли содействовал замыслу библейских эскизов: “Могу вас уверить, что ошибаетесь сильно: этот переворот не Гоголь произвел, а 1848 год. Не забудьте, что мы с братом были в Риме личными свидетелями всего тогда происшедшего. Мы с ним читали в то время все печатавшееся, как в Риме, так и во французских газетах. В этом году все книгопродавцы римские доставляли очень дельные, до того строго запрещенные книги с необычайной скоростью и легкостью; мы же со своей стороны не спали. Гоголь же от 1848 года нисколько не переменился… Вспомните только то, что Гоголь все более и более впадал в биготство, а брат, напротив, все более и более освобождался и от того немногого, что нам прививает воспитание”.
Дальше С.Иванов сообщал о самом главном: “У брата была мысль, сделать в композициях всю жизнь и деяния Христа. Проектировалось исполнение всего живописью на стенах особо на то посвященного здания, разумеется не в церкви. Сюжеты располагались следующим образом. Главное и большое поле каждой стены должна была занимать картина или картины замечательнейшего происшествия из жизни Христа; сверху же ее или их (так сказать, по бордюру, хотя это слово не совсем тут верно) должны были быть представлены, но в гораздо меньшем размере, относящиеся к этому происшествию или наросшие на него впоследствии предания или сказания, или же сюжеты на те места Ветхого завета, в которых говорится о Мессии, или происшествия подобные, случившиеся в Ветхом завете и т.д. Эти композиции, наполняющие все альбомы и большую часть отдельных рисунков, рождались, набрасывались углем и потом отделывались – все одновременно, хотя все это происходило в продолжение восьми лет, то есть с 1849 года до начала 1858 года, года его поездки в Петербург и кончины”.
|
|
| Благовещение деве Марии
|
Значит, по достоверному свидетельству самого близкого человека, Александр Иванов начал работу над “храмом человечества” в 1849 году (а задумал еще раньше, как видно из “Мыслей при чтении Библии”) и мыслил ее как историю жизни и деяний Христа с привлечением “наросших” преданий и параллелей из Ветхого завета. Претерпел ли этот замысел существенные перемены после знакомства с книгой Давида Штрауса “Жизнь Иисуса”, которую Иванов прочитал не ранее конца 1851 года во французском переводе? По-видимому, нет: проект в своей основе остался тем же. Все эскизы, числом более двухсот (включая и завершенные в цвете листы, и наброски) исполнены на сюжеты Ветхого и Нового заветов, причем преобладают евангельские эпизоды – история Христа. Нельзя сомневаться, что все та же идея – “сделать в композициях всю жизнь и деяния Христа” – владела художником и в последний год его жизни, когда он привез наконец в Петербург свою большую картину. Стасов свидетельствовал: “Придя ко мне, в 1858 году, незадолго до смерти своей, в Публичную библиотеку, он меня просил показать ему все, какие мне только известны, достовернейшие и древнейшие изображения Христа на мозаиках, фресках и других монументах, – причем, скажу мимоходом, оказалось, что он уже давным-давно все существующее в этом роде знает лучше меня”.
Что же дала или подсказала Иванову книга Штрауса, которую он очень стремился заполучить, а получив, тщательно изучал?
Сначала несколько слов об этой книге. Ее автор – представитель так называемой либеральной теологии, ставившей задачу освободить Евангелие от легендарных наслоений, от метафизики, выявив реальное историческое зерно. Главным камнем преткновения здесь были сверхъестественные явления и чудеса, о которых повествуют евангелисты. Штраус в “Жизни Иисуса” полемизирует со своими предшественниками, пытавшимися найти естественное объяснение чудесам. Так, чудо хождения по водам они объясняли тем, что ученикам только показалось, будто Иисус идет по воде, а на самом деле он шел по кромке берега; преображение истолковывали как оптическое явление; воскрешение Лазаря – как пробуждение от летаргии и так далее. Подход Штрауса был более радикальный – он прямо утверждал вымышленность евангельских чудес. Много места в его книге занимают доказательства их невозможности. По его мнению, рассказы о сверхъестественных событиях жизни Иисуса возникли из мессианистских чаяний еврейской общины. Поэтому все они имеют прообразы в Ветхом завете, а также перекликаются с другими религиозными и мифологическими системами. В книге эти аналогии рассматриваются. Штраус впервые применил к христианской истории понятие миф, хотя в отличие от позднейшей мифологической школы не сомневался в реальном существовании Иисуса Христа.
|
|
| Рождество Христово
|
Иванова не могло не заинтересовать уже само название книги, “Жизнь Иисуса”, совпадавшее с его собственной темой. О книге этой, вышедшей первым изданием в 1835 году, много говорили, в папском Риме она была запрещена; художник надеялся почерпнуть в ней дополнительные знания о предмете. И действительно, приводимые Штраусом параллели с Ветхим заветом ему очень пригодились: ведь он и сам задумывал показать их в эскизах росписей, чтобы представить христианство как “результат всех верований”, но чувствовал себя недостаточно эрудированным. Тут он часто прямо следовал Штраусу, как доказано В.Зуммером на основании таблиц, где художник схематически намечал расположение композиций на стене. Например, в центре – “Искушение Христа”, а “по бордюру” – “Иегова искушает Давида”, “Змей искушает Еву”, “Ариман искушает первых людей”. Или вокруг “Благовещения” – “Три ангела у Авраама”, “Бог является родившемуся Моисею” и другие.
Экскурсы Штрауса в область языческих религий и митраизма также привлекли внимание Иванова: судя по таблицам, он намеревался ввести в росписи “Вознесение Геркулеса”, “Леду и лебедя”, некоторые другие античные мифы. Однако ни один из них не получил даже предварительной разработки. Все листы посвящены только библейским событиям: более всего – евангельским, меньше – ветхозаветным.
|
|
| Проповедь Иоанна Крестителя
|
Преувеличивать влияние книги Штрауса на работу Александра Иванова не следует, и тем более трудно согласиться с выводом Зуммера, будто цикл Иванова ее иллюстрирует. Не говоря уже о том, что цикл был задуман и начат задолго до знакомства с книгой, а также о том, что пластические образы художника вообще несопоставимы с отвлеченными рассуждениями ученого, они иные и по смыслу. Потому что Иванов направляет усиленное внимание как раз на то, что Штрауса занимает только в отрицательном аспекте, – на атмосферу чудесного и таинственного, окутывающую евангельские повествования.
Если бы Иванов действительно следовал ходу мыслей Штрауса, подчинился логике его доказательств, он изобразил бы демифологизированную историю Христа, примерно так, как через несколько десятилетий сделал В.Д.Поленов в серии полотен о жизни Иисуса – очень поэтических, но лишенных элемента сверхъестественного. По такому пути шел французский историк и писатель Эрнест Ренан в широко известной книге “Жизнь Иисуса” (она вышла через несколько лет после смерти Александра Иванова). “Освобождал” от чудес историю Христа и Лев Толстой, по-своему переложивший Евангелие, – “евангелие от Льва”, как его в шутку называли. Но Иванов подходит совсем иначе, собственно, вразрез с позитивистскими течениями. Он представляет события в полном согласии с евангельскими текстами, где чудесное вплетено в ткань реального.
Сакраментальный вопрос, для Штрауса первостепенный: могли ли чудеса быть на самом деле? – для Иванова как художника словно бы не существует, он мыслит в иных категориях. Практически книга Штрауса послужила ему лишь путеводной нитью для отбора сюжетов, окружавших евангельскую основу. Однако чтение ее, а также и других книг, ранее запретных (может быть, среди них были и сочинения Фейербаха), несомненно, влияло на него, истребляя последние остатки догматического мышления. Так широко раздвинулись мыслительные горизонты, что померк замысел большой картины “Явление Мессии”, в которую он прежде думал вместить “смысл всего Евангелия”, – идеи духовного возрождения человечества. Ведь и сюжет “Сошествия во ад” внутренне аналогичен “Явлению Мессии” (не потому ли он его и выбрал?) – и там, и здесь является Христос-искупитель, неся грешному человеческому роду милосердие и надежду. Но где же путь, пройденный человечеством? где история?..
|
|
| Хождение по водам
|
В письме 1855 года неизвестному адресату Иванов писал: “Мои труды: большая картина более и более понижается в глазах моих. Далеко ушли мы, живущие в 1855 г., в мыслях наших тем, что перед последними решениями учености литературной основная мысль моей картины совсем почти теряется… Вы, может быть, спросите: что ж я извлек из последних положений литературной учености? Тут я едва могу назваться слабым учеником, хоть и сделал несколько проб, как ее приспособить к нашему живописному делу”.
Под пробами художник разумел библейский эскизы, над которыми работал уже несколько лет с таким же полным страстным погружением, как раньше над большой картиной. Но никому, кроме брата, эскизы не показывал и мало кому о них говорил, а если говорил, то обиняками.
В 1857 году он поехал в Лондон, чтобы свидеться с Герценом и у него “зачерпнуть разъяснение мыслей моих”. Беседуя с Герценом и Огаревым, Иванов, по-видимому, больше слушал, чем говорил; об эскизах из жизни Христа упоминал только как о давнем намерении, умалчивая о том, что они уже наполовину сделаны. Из разговора с художником Герцен и Огарев вынесли одно: он разочарован в прежних идеалах искусства (религиозных?), ищет новых (каких?), но сомневается в своей способности их воплотить. Герцен в некрологе Иванову так передавал (по памяти) слова художника: “Я утратил ту религиозную веру, которая мне облегчала работу, жизнь, когда вы были в Риме… Я мучусь о том, что не могу формулировать искусством, не могу воплотить мое новое воззрение, а до старого касаться я считают преступным, – прибавил он с жаром. – Писать без веры религиозные картины – это безнравственно, это грешно; я не надивлюсь на французов и итальянцев: разбирая по камню католическую церковь, они наперехват пишут картины для ее стен. Этого я не могу, нет, никогда, никогда!”
|
|
| Проповедь в храме
|
Нет оснований не доверять свидетельству Герцена. И все же, не странно ли: Иванов с жаром утверждает, что утратил веру, что писать религиозные картины без веры преступно, – а в то же самое время с жаром работает над огромным циклом религиозных картин и продолжает эту работу, вернувшись из Лондона в Рим. Даже при том, что его собеседники о ней просто не знали, они должны были почувствовать противоречие в словах Иванова. Если Герцен в это противоречие не углублялся, приветствуя художника уже за его поиски новых идеалов, то Огарев не преминул указать на него в статье “Памяти художника”. Отказ Иванова от старой религиозной живописи, разочарование в собственной картине, но в то же время нежелание расстаться с библейскими сюжетами Огарев воспринял как вопиющую непоследовательность художника, которой он не намерен был уступать. “Да! это была лазейка глубокого отчаяния, –писал критик, – но не выход”.
Между тем Иванов занимался библейскими эскизами вовсе не с отчаяния, а вдохновенно и увлеченно. Что он к ним нисколько не остыл и в самый последний год жизни, ясно показывают строки из его письма В.П.Боткину, написанного из Петербурга всего за несколько недель до смерти: “…при первом случае тотчас же завернусь опять в ту улочку, в которой так спокойно зрели в продолжение 8-ми лет мои новые думы, и к олицетворению которых еще нужно по крайней мере года четыре римской жизни”.
В этих словах нет и следа смятенности и неуверенности, высказанных ранее в беседе с Герценом. Напротив: художник говорит о многолетнем спокойном созревании своих “новых дум” и намерен вернуться к их осуществлению как можно скорее. В петербургской художественной жизни конца 1850-х годов он не нашел ничего, что могло бы их обесценить или предложить взамен новые идеалы. А то, что предлагалось: обращение к жанровой живописи, – было ему чуждо. В том же письме он писал: “Tableaux de genre в России есть совершенное разрушение наших лучших сил, и яснее: размен всех сил на мелочи и вздоры”.
|
|
| Знавшие Иисуса смотрят издали на распятие
|
Особое мнение о “вопиющей непоследовательности” Иванова сложилось у Стасова, который встречался с ним в том же 1858 году, а вскоре после его смерти имел возможность познакомиться с библейскими эскизами (они привели его в восторг), переписывался с Сергеем Ивановым, вообще знал о последних трудах художника больше, чем другие собеседники и критики. Как известно, Стасов был горячим пропагандистом искусства, отражающего современную жизнь, и ему хотелось найти у позднего Иванова хоть какие-нибудь шаги в этом направлении, хоть какой-нибудь отход от религиозной темы. Не найдя ничего подобного, Стасов честно сделал вывод, что Иванов вовсе не терял религиозную веру. Он, по словам Стасова, “оставался религиозным и благочестивым даже в последние годы своей жизни, когда вдруг вообразил про себя, что перестал “верить” и “быть религиозным”. Он говорил и думал одно, а, судя по всем его делам, предприятиям, планам и намерениям, выходило совсем другое. Даже в последние дни жизни он только об одном и мечтал: поехать в Палестину и писать жизнь Христа”. В свойственной Стасову энергичной манере, он заключал: “В чем же, спрашивается, состоял бы тот переворот в искусстве, который проповедовал Иванов? Он явно сводился к нулю”.
У Иванова и Стасова были разные понятия о “перевороте” и “новом пути” в искусстве. Иванов видел его не в отказе от религиозной темы, но в ее новом осмыслении и наполнении – масштабном, философическом и одновременно строго историческом, связанном с “живым воскрешением древности”. Он полагал, что это несовместимо с живописью культовой, церковной, и потому задуманные им циклы картин должны были помещаться отнюдь не в церкви. По той же причине он негодовал на итальянских художников, которые, “разбирая по камню католическую церковь”, получают у нее заказы на роспись церковных стен.
Однако, беседуя с Герценом и Огаревым, художник говорил не только о внецерковности своей работы, но и о том, что “утратил веру”. Если так, значит, он действительно находился в жестоком разладе с самим собой. Можно ли было в таком состоянии духа создавать гармонический библейский цикл? Ведь Александр Иванов был не из тех, кто мог творить вопреки убеждениям.
|
|
| Выход с Тайной вечери
|
Однажды А.П.Чехов высказал такую мысль: “Между “есть Бог” и “нет Бога” лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его; и потому обыкновенно он не знает ничего или очень мало”. Русский человек Александр Иванов по условиям времени, среды, воспитания приучен был к четкой бинарной формуле: “верую” – “не верую”, середины не дано. (Хотя в Евангелии есть знаменательные слова: “Верую, Господи, помоги неверию моему”.) Но обладая ищущим умом, хотел знать много и, отдаляясь в умственных поисках от одной крайней точки, временами готов был считать себя оказавшимся в другой крайности, исключающей веру, что приводило его в смятение. Уже одно то, что он подходил к христианству аналитически, не противоречило ли вере отцов? Он мог так думать, так “вообразить про себя”, по выражению Стасова.
По-видимому, все обстояло сложнее: религиозное миросозерцание Иванова эволюционировало, но не разрушалось. Он расставался не с верой, а с той крайней конфессиональной традицией, которая не допускает отступлений от догмы, от буквы, нетерпима к инакомыслию, страшится ересей, отбрасывает легенды и мифы как почву для ересей. Словом, Иванов освобождался от того, что его брат называл биготством. И это совершилось не внезапно, не вдруг. Он и в прежние годы, работая над “Явлением Мессии”, предавался рефлексии, которая уже по определению несовместима с верой нерассуждающей, слепой. “Разъяснения своих мыслей” он постоянно искал у тех, кого считал мудрее себя, – у Рожалина и Овербека, у Гоголя, у Штрауса и Мадзини, у Герцена и Чернышевского. В конечном счете надежнейшим проводником оставалась его художественная интуиция: в работе он ей доверялся и обретал спокойную цельность, которой недоставало его умозрениям.
|
|
| Молитва в Гефсиманском саду
|
Располагая библейские композиции на стенах воображаемого здания в соответствии с книгой Штрауса, Иванов как бы подтверждал тезис о мифологическом элементе в христианстве (что также могло представляться ему отходом от веры). Но, по существу, в своем понимании мифологии оставался ближе Шеллингу, чем Штраусу. Для рационалиста Штрауса миф – то, чего не могло быть, небылица. Для Шеллинга первичный принцип – тождество идеального и реального, изначально заложенное в мироздании и предстающее в смыслообразах мифологии как подлинная вселенная. Мифология, по Шеллингу, есть первоначальное и необходимое условие всякого искусства. Вырастая из мифологии, искусство творит духовную реальность, равноправную с материальной.
Исключительно рационалистический взгляд на мир несовместим с религией – религия метафизична. Он плохо уживается и с искусством: последовательно проведенный рационализм логически вынуждает признать создания творческого воображения чистой фикцией, в лучшем случае – аллегорией. Философия тождества Шеллинга для рационалистически настроенного ума представляется весьма туманной, но художественной деятельности она родственна, так как снимает жесткую преграду между сущим и идеальным. “Она всюду видит единую творимую жизнь”. И напротив, рационалистическая концепция Штрауса такова, что “формулировать искусством” ее положения нельзя без ущерба для искусства, в чем и признавался Иванов Герцену.
|
|
| Вознесение Христа
|
Вплоть до настоящего времени миф, мифотворчество, мифология понимаются далеко не однозначно. В зависимости от общей мировоззренческой установки существуют различные точки зрения на соотношение мифологии и религии, мифологии и истории, мифологии и фантастики. Проблема осложняется разнохарактерностью явлений, относимых к категории мифов – от космогонических сказаний первобытных народов до мифов-обманов, творимых, так сказать, на глазах в современном обществе. Отношение мифа к истине также варьируется в широком диапазоне: от шеллингианского понимания мифа как высшей истины до позитивист-ского – как искажения истины, проистекающего из наивности донаучного мышления. Последнего мнения теперь придерживается мало кто из серьезных ученых. Символический язык мифа присущ, по-видимому, человеческому мышлению постольку, поскольку оно способно подниматься над чистой эмпирикой.
Александр Мень пишет: “Миф в философском смысле слова есть неизбежная форма для выражения сверхрассудочных истин. Каждое мировоззрение подразумевает некие аксиомы или постулаты, которые являются мифическими, и, следовательно, по-настоящему демифологизировать человеческое сознание невозможно”.
Очевидно, нельзя полностью демифологизировать и историю. В дымке мифа предстает каждое большое событие прошлого; чем дальше в глубь времен, тем более размыты границы между мифом и историческим фактом, причем, как говорит русский писатель Борис Зайцев, “миф лучше чувствует душу события, чем чиновник исторической науки”.
Особенность подхода Александра Иванова к библейской истории в том, что он, стремясь к исторической достоверности, к “живому воскрешению древнего мира” со всеми “точностями антикварскими”, доступными современной науке, не отбрасывал мистический и мифологический элемент как недостоверный, но трактовал его как духовную реальность бытия.
* * *
Художник рассчитывал еще по крайней мере на четыре года, чтобы завершить весь цикл, где, напомню, предполагалось около 500 композиций. Этих четырех лет судьба ему не отпустила. В Петербурге он заразился холерой и умер.
В том, что он успел сделать, наряду с большими отделанными акварельными листами множество предварительных проб, схематических наметок, беглых набросков в альбомах. Весь этот богатейший материал еще ждет своего исследователя. Есть своеобразное очарование в нон финито великого мастера: даже просто проглядывая черновики, зритель в какой-то мере приобщается к процессу творчества. Даже относительно законченные композиции не всегда являются окончательными: в большинстве случаев художник разрабатывает несколько вариантов одного сюжета – это позволяет угадывать внутреннюю логику его поисков.
Александра Иванова было принято считать художником одной картины, а между тем он был создателем сотен картин. В долгой работе над “Явлением Мессии” целый мир образов созревал в сознании, откладывался в памяти, – образовался избыток художественных идей, требовавших выхода. И вот рождаются одна за другой композиции, не повторяющие одна другую. Предварительные наброски к ним – это творческие, а не технические штудии. (Исключение составляют только вычерченные в альбомах детали архитектуры, скопированные из увражей по искусству Древнего Востока.) Как мастер Иванов чувствовал себя как никогда уверенно, уже не нуждаясь в том, чтобы тщательно штудировать анатомию, ракурсы, драпировки. Его рука приобрела ту чудесную верность, когда технические трудности перестают существовать и художник без напряжения переносит на бумагу образы, встающие перед мысленным взором, – недаром в библейских эскизах находили нечто визионерское: словно бы мгновенно запечатленные видения.
|
|
| Проповедь апостола Павла в римской тюрьме
|
По сравнению с “Явлением Мессии” Иванов как живописец становится в библейских эскизах иным. Остережемся сказать “выше”, “лучше” – его огромный холст со всеми этюдами остается бесспорным шедевром, принижать значение шедевра бессмысленно. Но в библейском цикле дар художника раскрывается новой гранью: великий пластик, извлекший из классицистической школы все, что она могла дать, теперь совершает прорыв к новым живописным ценностям. Он пожинает плоды многолетнего опыта работы на природе, проникновения в тайны цвета, света, воздуха, пространства. Это сказалось в поздних масляных этюдах обнаженных мальчиков, но еще более – в акварельной живописи. С трудом верится, что Иванов впервые начал работать в этой технике только в 40-х годах и за сравнительно короткое время достиг в ней такого артистизма. Его акварели воздушны, светоносны, дышат какой-то особенной свежестью. Во времена Иванова работали многие превосходные акварелисты, в том числе Карл и Александр Брюлловы. В уровень с ними стоят ранние акварели Иванова – его “жанры”, но в библейских эскизах он пошел дальше: в вариативности, смелости, легкости акварельного приема у него нет равных. Тонкая прорисованность соединяется с живописной обобщенностью. Стадии рисунка и расцветки не разделены: как правило, Иванов не делал предварительного рисунка карандашом, а рисовал цветные контуры тонкой кисточкой и погружал фигуры в среду мягкими тающими пятнами краски. Лишь изредка встречаются рецидивы академической манеры – в условном повороте фигуры или в жесткости красочных сочетаний. За очень немногими исключениями в акварелях Иванова отсутствует плотная густая окраска: цвет зыблется, фосфоресцирует, свет пронизывает человеческие фигуры, становящиеся полупрозрачными, как бы слегка размытыми, не утрачивая при этом рафаэлевской благородной ясности очертаний.
Вероятно, не стоит жалеть о том, что эскизы не были претворены в большие картины маслом, как художник замышлял, а остались в акварельных листах. Перевод в масло их отяжелил бы и огрубил. Прозрачность, трепетность акварели, легкая эскизная недоговоренность тут уместнее – это как бы дымка времени, сквозь которую видятся образы легендарного прошлого.
Не слишком много теряем мы и от того, что Иванов не успел до конца разработать общую композицию своего “храма человечества”, то есть систему расположения картин на стенах. Это расположение сюжетов “по Штраусу” отдает рассудочностью, в общем-то чуждой Иванову. Органического художественного, ансамблевого единства, каким отличаются старинные храмовые росписи, здесь получиться не могло, тем более что и сам Иванов, художник новейшего времени, все же был мастером станковой, а не монументальной живописи. По существу, каждая его композиция самоценна, замкнута в себе, а связь между ними, намечаемая в таблицах, довольно условна и необязательна. Вполне допустимо рассматривать его листы по отдельности, как последовательные звенья библейской истории, отвлекаясь от штраусовских параллелей и аналогий. Весь цикл при этом естественно разделяется на ветхозаветную и новозаветную истории.
И та, и другая иллюстрировалась на протяжении веков многократно, в том числе художниками XIX столетия. Но, кажется, никому не удавалось сделать то, что смог Александр Иванов: соединить реализм с духом Библии, представить историю и миф, реальное и чудесное как бы в изначальном синтезе.
Есть некоторые различия в интерпретации Ивановым Ветхого и Нового заветов, прежде всего в изображении чудес. М.М.Алленов замечает: “Чудесные явления, как они даны в библейских эскизах, вовсе не стоят над бытом и повседневностью, не противоречат этому быту, а сосуществуют с самыми что ни на есть простыми и будничными делами и вещами… мир обычный и мир сверхъестественный принципиально не разграничены, чудо неотделимо от повседневной действительности и ожидается в любую минуту”. Тонкое наблюдение, но оно справедливо только по отношению к ветхозаветным сценам, не к евангельским. В последних повседневное и трансцендентное разграничены больше: чудеса изображаются как нечто необыкновенное, вторгающееся в нормальную жизнь и нарушающее ее привычный ход. Они сопровождаются потоками нездешнего света, сдвигами пространства; люди, пораженные, не знают, видят ли они это наяву или во сне. Ведь это люди уже новой эры, их склад ума, их менталитет не столь далек от нашего. Другое дело во времена седой древности, когда, согласно библейским преданиям, участие небесных сил в жизни пастушеских племен проявлялось постоянно и непосредственно: ангелы сходили на землю и брали в жены дочерей человеческих, патриархи и пророки получали от Бога руководительные указания, Бог сам шел перед войском в виде огненного столпа или облака. В представлении той среды чудеса столь же реальны, как повседневные события. Иллюстрируя Ветхий завет, Иванов действительно показывает чудеса вплетенными в быт. Величие и простодушие – вот основной тон его пластических повествований об Аврааме, Иакове, Моисее, Илии.
Иванов избегает трактовать ветхозаветные сюжеты в свете их позднейших толкований богословами, не ищет в них аллегорического значения. Его занимает другое: приникнуть к истокам, услышать “звук умолкнувшей речи” древних народов. Но он все время помнит, что в словах и деяниях ветхозаветных пророков предвозвещался приход Мессии, подготовлялось христианство с его проповедью любви. Он смягчает жесткие черты библейской истории: Бог карающий и грозный, Бог – мститель, “огонь испепеляющий”, не находит отражения в библейских эскизах. (Надо заметить, что Иванов вообще не любил и избегал сюжетов, связанных с разрушительными катаклизмами, к которым тяготел Брюллов.) Пафос ивановского ветхозаветного цикла можно было бы передать словами Томаса Манна (из предисловия к роману “Иосиф и его братья”) о “присущей Ветхому завету идее союза между Богом и человеком, то есть мысли о том, что Богу не обойтись без человека, человеку – без Бога и что стремления того и другого к высшим целям переплетаются между собой”. Это согласуется и с записями Иванова, где он говорит, что человек не может изобразить божество иначе как через призму высоких человеческих качеств.
Ветхозаветный цикл Иванова начинается, не считая протобиблейских эскизов о сотворении мира, с легендарного прародителя Авраама. Знаменитую сцену явления Аврааму трех путников художник решает почти как идиллическую пастораль. (9) В жаркий солнечный день Авраам гостеприимно принимает странников; один из них старик, два другие молоды; они расположились за трапезой под сенью дуба в самых непринужденных позах. Из шатра выходит жена хозяина Сарра, и старший гость, обращаясь к ней, говорит, что скоро у нее родится сын. Авраам удивлен – ведь он и Сарра бездетны и стары; но, может быть, гость просто хотел сказать приятное хозяйке? Нет никакого намека на позднейшее отождествление странников с Пресвятой Троицей христиан: Авраам ведь не мог ничего об этом знать. Кажется, он даже еще не догадывается об ангельской природе своих гостей. (Сравним этот лист с “Ангел поражает Захарию немотой”(1) евангельского цикла, близким по мотиву: там все необыкновенно и торжественно, а здесь – бесхитростно.)
Другая, тоже “бытовая” сцена: пожилая Сарра, и улыбаясь, и досадливо морщась, кормит грудью новорожденного Исаака. Согбенный Авраам задумчиво смотрит на сына, очевидно, вспоминая визит троих незнакомцев и приходя к мысли, что то были не простые странники.
Но вот кульминация истории Авраама – “Призвание Авраама”. (8) Два величественных старца, почти одного роста, стоят на вершине на фоне расстилающегося внизу ландшафта. Они заключают завет – священный договор между Богом и человеком. Саваоф распростирает руки, как бы охватывая этим широким жестом пространства, предназначенные во владение потомкам Авраама. Авраам прикладывает руку к сердцу и склоняет голову, но в его жесте нет подобострастия, он исполнен достоинства. (В одном из предварительных рисунков художник изобразил Авраама “павшим на лицо свое” перед Саваофом, но в окончательном варианте от этого отказался.) В ответ на доверие к нему Бога Авраам отвечает безграничным доверием: это показано в рисунке “Жертвоприношение Авраама”, где он без колебаний готов принести в жертву своего сына. Ангел указывает на овна: доверие человека Богу подверглось самому трудному испытанию и выдержало его; отныне и навсегда человеческие жертвы отменены.
В листе “Борьба Иакова с Богом”(10) – снова равноправная встреча-поединок божественного и человеческого. Они не столько борются, сколько познают друг друга прикосновениями, как будто преодолевая невидимую преграду.
Вся группа рисунков, относящихся к Книге Бытия, выдержана в тоне спокойного эпического рассказа – еще не об истории, но о предыстории народов Израиля. Здесь даны только простые и древние пласты человеческого бытия: шатры кочевников, стада, рождение и смерть, юность и старость, мужчина и женщина. Все это художник показывает обобщенно и крупно, не индивидуализируя, не вдаваясь в детали. По-иному он подходит к иллюстрированию второй книги Пятикнижия – “Исход”, связанной с деяниями Моисея, возглавившего исход евреев из Египта. Это событие историки относят к эпохе Размзеса II, к ХIII веку до н. э., его отделяет от легендарных времен Авраама не менее шести столетий. Теперь исторический колорит сгущается: Иванов вносит в свои композиции приметы конкретного времени, основываясь на данных археологии, на изучении египет-ских памятников. С большим художественным тактом он привносит элементы древнеегипетского стиля – чеканные ритмы, своеобразные развороты фигур. Детально проработанная акварель “Фараон просит Моисея вывести евреев из Египта”(11) смотрится как настоящая историческая картина. Интерьер дворца фараона представлен со всеми “точностями антикварскими”, стволы и капители колонн покрыты типичным египетским орнаментом. Фараон, спускаясь по ступеням, горестно закрывает лицо рукой, его подданные также охвачены отчаянием от постигших страну бедствий – одни заламывают руки, другие простирают руки к Моисею и Аарону, некоторые падают на колени и склоняются до земли. В их бурной, но ритмической, как бы ритуальной жестикуляции узнается экспрессия “плакальщиков” древнеегипетских рельефов.
Не то замечательно, что русский художник, воспитанник академии, смог оценить художественный язык памятников, столь далеких от академических традиций, а то, что как органично он вводит элементы этого языка в контекст современного решения многофигурной композиции. В пространственном, перспективно построенном интерьере “плакальщики” не выглядят чужеродными. Как удавалось Иванову соединить в непротиворечивое художественное целое далекие стилевые принципы? Им двигало не стремление к стилизации: он хотел через призму стиля понять, каким был мир древних художников. Это его испытанный метод, применяемый еще в работе над этюдами к “Явлению Мессии”: “согласить творчество старых мастеров с натурой”. Глядел ли он на античные мраморы, на полотна ренессансных художников или на египетские рельефы – он мысленным взором созерцал их жизненный первоисточник, их “натуру”.
В листе “Поклонение золотому тельцу”(15) группа пляшущих очень похожа на древнеегипетские изображения танцоров: плечи в фас, лица в профиль, такие же движения рук. В альбомах Иванова имеются заготовки – танцующие фигуры, срисованные с атласа по египетскому искусству. Интересно, что скопированы они не совсем точно, но заметно снижены: в позах придворных танцовщиц есть что-то напоминающее пляску подгулявших простолюдинов. Так это и вошло в композицию “Поклонение золотому тельцу”: беженцы в отсутствие Моисея воздвигли языческий золотой кумир и предаются разгулу. Пляшут, бьют в бубны, пьют; какой-то упившийся голый старик заснул, лежа на животе; есть тут и довольно недвусмысленная сцена пьяного соития.
Скитаниям израильтян в пустыне посвящены многие листы: сбор манны, ловля перепелов (13), поиски воды, медный змий – все в нескольких вариантах. Видимо, художника увлекала задача показать бедствия и неразумие толпы. Люди суетятся, мечутся, ползают по земле, жадно загребая пищу, согласия между ними не видно. Массовая психология людей, которые долго были рабами и теперь могут только взывать к вождю, роптать и чаять манны небесной (что и побудило Моисея водить их по пустыне до тех пор, пока не вырастет новое поколение – не знавшее рабства), – многозначительная тема, не устаревшая за века.
Особый лист – Моисей на горе Синайской перед Ягве, пишущим заповеди на скрижалях.(14) Если Авраам стоял перед Богом лицом к лицу, почти как равный, то здесь несколько иное решение. Ягве, чей лик не дано видеть никому, является Моисею “в облаке”, как некая призрачная статуя. Он восседает на пьедестале, охраняемом керубами (крылатыми грифонами с телом льва и головой человека). Моисей стоит с опущенной головой, внимая словам Бога, но не дерзая поднять на него глаза. Дистанция между ними подчеркнута манерой рисунка, бесплотно-контурного в изображении Ягве и объемного в фигуре Моисея.
Обращаясь к иллюстрированию Книги Царств, Александр Иванов усиливает черты быта и психологии, индивидуализирует образы героев: мудрого судии Самуила, порывистого и необузданного царя Саула, юного пастуха и песнопевца Давида, призванного покинуть свои мирные стада и помазанного
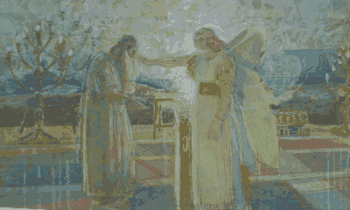











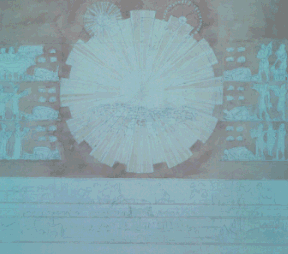




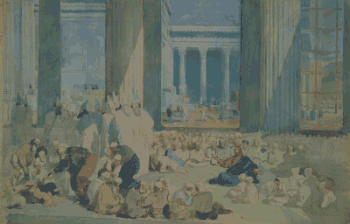

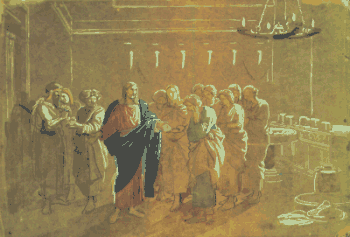

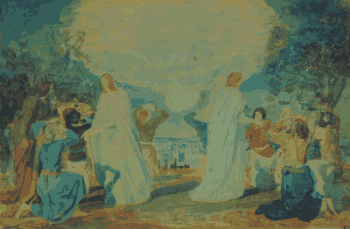

Свежие комментарии